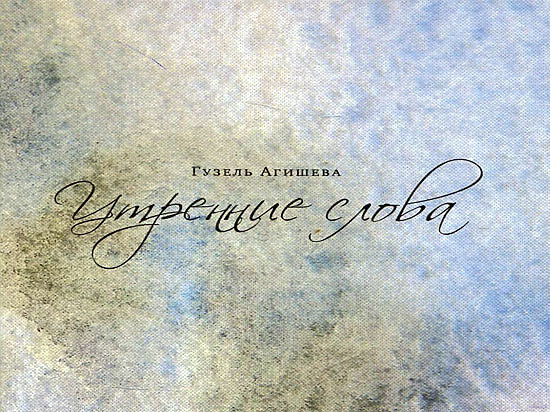агишева гузель идеаловна биография
«Брошь», Гузель Агишева
Рассказ в пятом номере «Дружбы народов». У автора несколько высших образований в самых престижных вузах страны. По профессии журналист.
До странности много схожего в рассказах авторов, подписывающихся женскими именами. По крайней мере, в тех, что отбираются центральными редакциями. Вот и здесь, опять больница, только уже не сумасшедший дом, хотя какие-то ненормальные мельком и здесь встречаются, опять Германия. Очевидно, для нынешних писательниц зарубежье — сильнейшее впечатление, только там их прозаические музы раскрепощаются и начинают чудить. Или просто им интересна исключительно заграница, а на родину они плевать хотели? По публикациям это определенно трудно сказать. Ведь в чем здесь проблема? Возможно у Гузель Агишевой или у той же Коф тьма других рассказов на другие темы да и лучше написанных, но редакция по только ей известным причинам отобрала именно этот. И по отобранному редакцией тексту мы и судим об авторе. Получается, если редакция некомпетентна, а это у нас повсеместно, то страдает автор.
Также мне непонятно, к примеру (к этому же вопросу), когда у нас говорят о, скажем, прозе девяностых: проза девяностых у нас такая-то и такая-то. Это какая проза? Которая в журналах печаталась? А кто вам сказал, что это проза? Что это лучшие ее образцы? Это всего-навсего выбор журналов, а он может быть и ошибочным. Я лично ни одному журналу не доверяю абсолютно, разве что с оглядкою и проверками. Потом, спустя десятилетия, глядишь, всплывет какой-нибудь незамеченный сегодня писака, и вся хваленая лубочная картинка прозы любых годов изменится до неузнаваемости.
Смысл здесь в чем? Следите за формулировками, господа. А они должны быть максимально корректными. Конечно, хочется охвата, значимости, но точность в любом деле прежде всего. Она нам, читателям, представит вас — критика, обозревателя, как человека культурного, уважающего и себя, и исследуемые предметы.
Навскидку: «проза девяностых» очень легко исправляется: «толстожурнальная» проза (года подставляйте сами)«, «проза крупных издательств», «неформатная проза», «непризнанная», «публикуемая проза» и т. д. Вот я обозреваю рассказы — внимание! авторов, подписывающихся женскими именами. В силу разных причин эта формулировка мне кажется наиболее корректной.
Об Агишевой: по сути рассказ о войне, о взгляде на нее с нашей стороны и со стороны немцев, о жизни победителей и побежденных, столь катастрофически различающейся. В общем, довольно неплохо, хотя растянуто, кашеобразно. Но, и это главное замечание, относящееся скорее к работе «ДН», чем к писательнице:
на мой взгляд, много редакторского брака. Агишева — журналист, а в журналистике отношение к слову поверхностное. Грешит она этим в рассказе, грешит, и тут редакция могла бы ее подправить. Бываю порой излишне придирчив, но мне не понравились:
«он теряет дар речи и краски лица» (очевидный косяк. У него что — лицо разноцветное?)
«жилистое тело, на которое время не покусилось»
«полуобморочное состояние» — это не косяк, но очень затертое выражение, плохо!
«все в ней читается без подтекстов».
Создается ощущение, что Агишева — один из тех авторов, которых журналы печатают «по обмену» или за субсидии, то бишь, за деньги, а «ДН» в программах таких участвует.
Неплохой момент, когда немецкий врач заговорил по-русски, но его можно было докрутить, побогаче придумать, хотя в нем и так есть значение; конечно, симпатично, когда немцы во время войны живут неделю с русской голодной семьей.
Агишевой я бы с чистой совестью, несмотря на языковые небрежности, поставил положительный балл, но оцениваем мы работу редакции. А «ДН» на этот раз 2. Правильно я их не люблю.
Экс-уфимка Гузель Агишева опубликовала «Утренние слова»
В издательстве ИЦ «Москвоведение» вышла в свет книга Гузель Агишевой «Утренние слова»
Предыдущая книга автора «Реставратор всея Руси. Воспоминания о Савве Ямщикове», изданная там же, была отмечена сразу четырьмя российскими премиями, в том числе — Роспечати и Всероссийской премией «Хранители наследия» в номинации «Слово». Редко можно встретить книгу, которая беседует с тобой, видит тебя, берет за руку.
И с ней хочется говорить о важном, существенном, хочется что-то рассказать о себе. Теперь я понимаю, почему к Гуле всегда так тянутся люди. Умеет слушать и слышать. Вот и в книге ее — голоса, голоса, голоса… И у каждого — своя интонация. А интонация — это такая необъяснимая вещь, без которой нет литературы, да и жизни нет. И это то, что сейчас со страшной силой исчезает, испаряется. Телевидение, радио, интернет переполнены звуками слов, но это «муки зву» (так и называется один из рассказов), в них нет интонации.
В книгу вошли рассказы, эссе, две повести и много щемящих, родных голосов.
Многие из них уже умолкли навсегда, а на этих страницах мы слышим их в такой точной и тонкой передаче, на какую не способен ни один диктофон.
«Утренние слова» — это кафешантан: все болтают, и кажется, о пустяках. Такая невыносимая легкость бытия.
Гулины пальцы помнят клавиатуру ХIХ века. Первые свои рассказы она печатала на дедушкином «Ундервуде» 1885 года. Один послала в ленинградский журнал.
Вскоре получила ответ из редакции за подписью Довлатова. В литературе он был человеком суровым, но ответ был сочувственный и неформальный — мол, «что-то в этом есть». Возможно, его тронул обратный адрес: школьница из Уфы. В Уфе Довлатов родился осенью сорок первого.
Вслед за Пушкиным он любил «странные сближенья». Полюбит их и Гуля. Проза Агишевой — это сближение, причудливая перекличка людей, стран, эпох, красок и даже вещей. Под ее рукой все они рифмуются друг с другом, и возникает ощущение гармонии. Хаос остается за акварельной обложкой. И нарисовала эти акварели тоже Гуля, ведь по первому образованию она художник.
Напомним, Гузель Агишева начинала как журналист в республиканской газете «Ленинец», где прославилась яркими и живыми статьями о культуре. Позже Гузель работала в «Комсомольской правде», «Известиях». Она — лауреат премий Союзов журналистов СССР (1989) и России (2006, 2009), Всероссийской премии «Хранители наследия» за книгу «Реставратор всея Руси. Воспоминания о Савве Ямщикове» (2011). Сегодня — редактор отдела «Общество» газеты «Труд».
Агишева гузель идеаловна биография
О фронтовике Валентине Ежове, с которым хотели написать книгу о войне, да так и не написали
120 международных премий, среди них два Гран-при Каннских фестивалей и целых восемь «Ариэлей», южноамериканских «Оскаров». А вот список фильмов, к которым он написал сценарии: «Баллада о солдате», «Дворянское гнездо», «Тридцать три», «Крылья», «Это сладкое слово — свобода!», «Белое солнце пустыни», «Сибириада»: Я принесла ему текст о нем. Когда Ежов дошел до места, где единицу измерения кинематографической состоятельности я предлагала назвать «1 Еж», засмеялся.
Сибай, Куштау, а теперь вот и Тубинский: их SOS все глуше, глуше.
Узкая тропа меж двух огромных блюдец с белой, непрозрачной жидкостью. Ни травинки, ни малейшей живности вокруг. Мертвечина! Этот кошмар навсегда остался в моей памяти. Его я видела в башкирском поселке Тубинский Баймакского района, куда приезжала в гости, и ходили мы по этой тропке в горы за дикой вишней. Мертвые озера, технические воды — результат промышленной добычи золота. А раньше, как утверждали старожилы, тут были райские места, почти как у озера Талкас, что в 4 км отсюда. Про эту уникальную пресноводную жемчужину тектонического происхождения.
В Башкортостане кипят страсти вокруг судьбы уникального древнейшего шихана, который может превратиться в банальный углекислый газ
Помните, чем наши мамы и бабушки надраивали ложки-вилки, когда всяких там «Пемолюксов» еще не было? Чайной содой (по науке — натрий двууглекислый). В СССР она была в бело-желто-оранжевой пачке: 6 копеек — полкило. Пачка и сейчас такая же, правда, стоит 30 рублей. Но кто бы мог подумать, что с этим древним средством связаны драматические и очень даже сегодняшние страсти. Они кипят вокруг уникального башкирского шихана Куштау, невозможной красоты древней известняковой горы, которую местная власть решила пустить на производство этой самой.
Свою большую и долгую жизнь она помнит во всех красках
В детстве у меня лучшей подругой была тетя Тоня, гардеробщица в художественной школе. Антонина Евгеньевна Урядова, вдова художника, родившегося еще в конце XIX века. Часами я просиживала у нее, слушая рассказы о всемирной красавице Лине Кавальери, чьи фото висели на стенах. А попутно узнавая массу полезных сведений. Например, про то, что новые кожаные перчатки должны быть тесными — их нужно пересыпать тальком, надеть и так в них и спать. Домашние пожимали плечами, когда я делилась с ними такими секретами. И с годами ничего не изменилось.
Рядом с московским парком «Покровское-Стрешнево» планируют отгрохать чудо современной архитектуры: 72 этажа, 255 метров высоты
Одна из жемчужин Москвы — парк «Покровское-Стрешнево». Выхожу на пробежку. Двое мужчин в спортивной амуниции тащат в гору бутыли с водой. Воду они, конечно же, набрали в святом источнике здесь же, в парке. Люди там становятся в очередь с бутылями — все хотят пить чистую воду, а уж сторонникам ЗОЖ сам бог велел. Хотя когда я потащила ее проверить в лабораторию, выяснилось, что солей в ней — мама дорогая! Вода из крана чище. Но я уклоняюсь от маршрута. Какой уж там ЗОЖ, когда рядом.
Валентину Яковлевичу Курбатову исполняется 80
Замечательный критик и мыслитель, тонкий ценитель и защитник русского языка и духа — без него отечественную литературу последних десятилетий уже трудно представить. А еще он так пристально и трепетно всматривается в себя и нас, в жизнь, пролетающую мимо, что это отражение в его письмах и «Дневнике» и само становится литературой. Попробуйте, вчитайтесь. Писатель Виктор Конецкий называл его матросом (а Курбатов и был мат-росом, служил на флоте 4,5 года — телеграфистом, наборщиком и даже заведующим корабельной библиотекой).
Знакомьтесь: Татьяна Новикова, художница, работающая со стеклом
Их фамилии так забавно, радостно рифмовались: Воликова и Новикова. Почти что Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал». Тандем двух московских художниц, работающих со стеклом. Фидаиль Ибрагимов, мэтр и собрат по цеху, шутя называл их Ноликовы. Хотя уж он-то понимал их место в «стекольной нише»: участие в биеннале стекла в Венеции, на международных выставках в Венгрии, Германии, Латвии, работы в лучших музеях страны — декоративно-прикладного искусства в Москве, Музее стекла в Петербурге, в «Царицыно».
В наукограде планируют снести квартал, где жили основоположники ракетно-космической отрасли
На заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов передал президенту РФ Владимиру Путину письмо о необоснованном отказе главного управления культурного наследия Московской области в сохранении исторических кварталов в центре подмосковного Королева. Письмо подписали первые имена ракетно-космической отрасли: президент Академии космонавтики имени Циолковского И. В. Бармин, экс-министр общего машиностроения СССР О.Н. Шишкин, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза В.В. Коваленок и многие другие. Приводим выдержку.
Великий город великой русской истории может превратиться в спальный микрорайон уездного масштаба
«Еду в Уфу. Думаю о Гузель!
Скоро, уже совсем скоро ее увижу. »
Мне всегда казалось, что мой дедушка, которого я обожала, не совсем писатель. Что он только играет эту роль. Разве писатели такими должны быть? Смешливыми, доверчивыми, порой суетливыми, любознательными, как дети, искренними до парадоксальности? Писатели должны быть вальяжными и неторопливыми, иметь усталый взгляд, глубокомысленно взирать вокруг, красиво восседая в кресле.
А дедушка был живчик. Садился в кресло, тут же закуривал и закашливался, сидел в синих клубах дыма и, шевеля пальцами, пытался сосчитать, сколько же сегодня выкурил. Потом вдруг вскидывался и приникал к огромному приемнику, который всегда вещал на предельной громкости – на всю комнату, на весь подъезд, на весь двор… Звук у него был глухой и говорил он, будто закашливаясь, совсем как дедушка.
А как дедушка работал? Разве так должны работать писатели? Они должны чиркать рукописи до черноты, рвать их в неистовстве или сжигать. А дедушка почти все время гулял по улицам. Порой останавливался и, подняв палку к небу, произносил громко, нараспев: «Алла сакласын!» – и тут же, прищурив подслеповатые глаза, бросал кому-то вдогонку: «Очень здравствуйте!» Опять ходил и ходил по улицам. Слегка раскачиваясь, уловив какой-то ритм, по-балетному выворачивая стопы. Приходил домой молчаливый, погруженный в себя, долго пристраивал палку в угол и шел к себе. Ступал тихо, совсем бесшумно, как кошка – словно боялся расплескать свои мысли. Опять ходил вокруг круглого стола, который, казалось, и был, как глобус, установлен в центре его вселенной специально: чтоб ходить, ходить, ходить, пока не поймаешь ритм, мелодию слова. Потом молча садился за стол и писал. Не видя, что пишет. Записывал для бабушки. Строчка наезжала на строчку. Он пытался подносить лист к лампе в определенном ракурсе, чтоб увидеть или скорее угадать последнее слово, на котором почему-то остановился. Не видел и продолжал дальше. Его нельзя было в этот миг тревожить. Он держал в голове строй повествования, писал как бы виртуально. Надо было все продумать, проговорить, проинтонировать, сесть и записать в один присест. Но если его в этот момент кто-то тревожил, он никогда не говорил, что вот, мол, помешали…
Нет, писатели такими, конечно, не бывают.
И конечно же писатели не должны сами носить свои рассказы в редакции и радоваться, что они там понравились людям, которые еще меньше дедушки похожи на писателей.
Настоящие писатели живут в Москве, ездят в другие страны, а еще лучше – путешествуют по всему свету. Например, на Килиманджаро. Только такой опыт и интересен.
Все это я как-то поведала дедушке. Он слушал с таким вниманием, даже напряжением в лице – ни разу не возразил, не перебил. Мне стало даже неловко от того, с какой беспощадностью я вынесла «всем им, не настоящим» свой приговор. Только обескураженно сказал: «Интересно. Очень интересное суждение…»
До сих пор удивляюсь, что дед тогда ничего не возразил. Ведь мог сто доводов привести.
Тридцать четыре года спустя среди бумажных отвалов его архива случайно нашла шесть записных книжек. Оказалось, его дневники. Он вел их с педантичной аккуратностью с 1966-го по 1971-й. И еще один выбивающийся из хронологии год, 1958-й, посвящен мне, двухлетней. Я тогда сильно болела, а дед, оказывается, жутко переживал. Найденные записки взяла с собой в Германию. Здесь, под ритмичные удары колокола, летящие с морозным воздухом прямо с горы, и читаю их.
Вспомнились его строчки, почти молитва:
«Я в поезде. Думы о Гузель. Только думаю и думаю о ней…»
«Я в Москве. Вечером улетаю в Баку. Где ты, Гузель. »
«Я в Баку. А Гузель так далека. Встретил Расула, он приехал с дочерью. Очень похожа на Гузель. »
«Я уже в Москве. Дал телеграмму домой. Ничего о Гузель не знаю…»
«Еду в Уфу. Думаю о Гузель! Скоро, уже совсем скоро ее увижу. »
…А я сижу на замшелом основании каменного католического креста, чудом уцелевшего в городе гугенотов, и думаю о тебе, дедушка. И о твоих записях. Безыскусных, простых по форме, как деревенский ситчик. Натуральный, веселенький, так легко вбирающий в себя окружающие запахи и так долго их хранящий… И не могу не подивиться тому, как практически незрячий и глухой человек пытался реализоваться, как мог оставаться таким добросердечным, внимательным к людям, таким оптимистичным и быть совсем не завистливым! Как умел радоваться чужому успеху, восторгаться чужим талантом. Прощал за талант и дурной характер, и личные обиды. Редчайший дар.
За свою журналистскую жизнь я была знакома со многими большими, признанными писателями. С некоторыми из них общалась неформально в течение многих лет. И ни у кого не встретила этого дара – преклонения перед чужим талантом. Это как взобраться на Килиманджаро. Не меньше. Поэтому так часто я думаю о тебе, дедушка.
Ваше мнение
Мы будем благодарны, если Вы найдете время высказать свое мнение о данной статье, свое впечатление от нее. Спасибо.